К сожалению, работники военной прокуратуры передавали часть материалов польской стороне, не согласовывая это с руководством — из чисто дружеских таких расположений, но опять-таки как бы идя по курсу политической окраски, как бы чувствуя, угадывая, что нужно. И поляки этим, безусловно, пользовались.
Только по разговорам было известно, что следователи и прокуроры военной прокуратуры, которые участвовали в деле, выезжали на отдых в Польшу, получали там различную оргтехнику, чтобы множить эти документы— служебные, секретные. Они посещали польское посольство. Общество польско-советской дружбы, находились в приятельских отношениях с отдельными чиновниками польского государства.
Илюхин В.И.:
Спасибо. Владислав Николаевич, вы что-то хотели сказать? Уж ради бога, вы извините, мы первый раз слушаем представителей ГВП. Немножко от регламента отойдем.
ШведВ.Н.:
Прежде всего я хочу выразить восхищение позицией Сергея Ивановича, потому что вы представляете, что такое военные люди. Им дали команду— и под козырек.
Хочу добавить, что в марте 2006 года мы с Сергеем Стрыгиным встречались в Главной военной прокуратуре с генералом юстиции Кондратовым и полковником Шаломаевым, которые конкретно вели и знали Хатынское дело. Два часа длился разговор в ритме пинг-понга, но, когда знаешь реальную ситуацию, сразу видно, кто виляет. По крайней мере, в ходе разговора нам удалось установить, что дело было заказным, версия рассматривалась только одна — о безусловной виновности советского довоенного руководства. Временные рамки для следствия были поставлены жесточайшие— рассматривать события в Катыни только марта — мая 1940 года. Спрашиваем: а что же 1941 год? Как с выводами комиссии Бурденко? Ответ: «Это к делу не относится».
Я, честно говоря, не ожидал, что представитель Военной прокуратуры выскажется таким образом. Но всегда верил, что в России найдутся люди, которые скажут правду. Поэтому сегодня следует добиваться возобновления объективного следствия, взяв его под контроль.
Крук В. М., генерал-майор юстиции, помощник заместителя Генерального прокурора— Главного военного прокурора с 1992-го по
При расследовании каждого дела обязательно должны соблюдаться два принципа— беспристрастность и справедливость, базирующиеся на общепризнанных норт мах европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека и гражданина. При этом все доказательства, положенные в основу принимаемого по результатам расследования уголовного дела, должны отвечать требованиям допустимости и относимости. Это значит, что принимаемые доказательства должны иметь непосредствен-
на
ное отношение к предмету доказывания и должны быть получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. Это истина, не требующая дополнительной аргументации. При этом надо иметь в виду позицию, изложенную Конституционным Судом РФ в Постановлении № 13-П от 24 июня
Так вот, расследование дела, о котором идет речь, не отвечает ни одному из перечисленных выше принципов.
Я хорошо помню пропольский ажиотаж, в обстановке которого начиналось расследование. С первых дней делались глубокомысленные намеки о «верных сведениях» из спецслужб и Администрации Президента о расстреле польских офицеров именно сотрудниками НКВД, что уже однозначно указывало на заказной характер инициирования этого расследования.
Из общения с руководителями структур ГВП, имевших отношение к расследованию, было понято, что поставлена четкая задача — обосновать и найти способ доказать причастность лично Сталина и НКВД к расстрелу польских офицеров, а версию о расстреле поляков немцами вообще не рассматривать. Эту команду четко понимали на всех уровнях и принимали к действию. Ведь не зря следствие поручили именно военной прокуратуре. Время было смутное, публичное поливание грязью советского прошлого приветствовалось и поощрялось, и направление ветра многие быстро улавливали.
Под выполнение этой задачи и осуществлялся соответствующий подбор следственной группы. В аппарате ГВП было немало толковых, профессионально грамотных и морально порядочных следователей. Но ни один из них в следственную группу не вошел. В нее вошли те, в ком были уверены, что они без колебания выполнят поставленную задачу. Кто это был? Их все знают.
У меня сложилось впечатление, и оно впоследствии подтвердилось, что и настоящего прокурорского надзора за расследованием этого дела практически не осуществлялось. Я имею в виду надзор со стороны наших органов прокуратуры. Зато плотный контроль за следованием заранее выбранной версии осуществлялся польской стороной.
О какой независимости и беспристрастности расследования можно говорить, когда все, начиная от писчей бумаги до множительной техники, следственной бригаде поставлялось польской стороной. Не секрет, что ездили в командировки, на отдых под их патронатом. Постоянно ходили в Дом дружбы, в польское посольство, на регулярные фуршеты, руководители группы находились с рядом польских официальных лиц более чем в хороших отношениях. Это объясняет, почему польской стороне, помимо официально переданных документов, масса материалов передавалась неофициально, почему так называемую научно-историческую экспертизу фактически делали польские специалисты, основываясь на своем видении проблемы. Впервые эта экспертиза увидела свет именно в Польше, а не в стране, в которой проводилось расследование.
Что касается подсчета вообще погибших в Каты-ни, то никто, видимо, уже не узнает точную цифру лежащих в ее земле, как и то, когда именно и граждане какой национальности окончили там свой жизненный путь. И тем не менее вызывает крайнее удивление навязываемая разоблачителями НКВД цифра в 21 тысячу расстрелянных польских офицеров. Откуда она взялась, никто толком сказать не может. И понятно почему — никто всех погибших там не считал и не идентифицировал. Сейчас уже известно, что основным источником для определения числа погибших польских граждан были списки, представленные польской стороной.
Между тем известно, что в расстрельные ямы попали русские священники, польские жандармы и диверсанты, украинские и белорусские крестьяне, строители и охранники знаменитого гитлеровского бункера. Только есть ли там польские офицеры, да еще в таком количестве, сказать невозможно. Ведь проводимая следственной группой эксгумация тел носила точечный характер. Да и никаких дополнительных доказательств они не дали, только породили массу вопросов.
Основное доказательство расстрела польских офицеров сотрудниками НКВД по приказу Сталина — нашумевшая записка на 4 листах, подписанная от имени Берии и якобы представленная Сталину. Как и откуда она появилась в деле, покрыто мраком. Известно, что в деле лежит не оригинал, а цветная светокопия. Об этом знали в аппарате ГВП почти все, хотя делали вид, что это тайна. Я видел ее копию. Первое, что бросилось в глаза, — отсутствие на документе даты (стоит только месяц март и год—1940-й) и регистрация в секретариате НКВД 29 февраля
В связи с этим сразу появились сомнения в подлинности и достоверности этого документа. Я задавал вопросы ответственным за расследование лицам, видел ли кто-либо оригинал записки Берии и проводилась ли экспертиза подлинности документа? Ответ был один: подлинника нет, видимо, он был ранее уничтожен; экспертиза не проводилась, поскольку в ней нет необходимости.
Я знаком с заключением Молокова, проводившего экспертные исследования текста записки Берии. Его выводы о том, что текст записки выполнен на нескольких разных машинописных аппаратах, убедительны и, что самое главное, никем не опровергнуты. Более того, по утверждению историка Юрия Жукова, он официально получил из архива Президента России ксерокопию этой же записки Берии Сталину, которая, среди прочих документов, представлялась в Конституционный Суд как доказательство «преступной» деятельности КПСС, но уже на одном листе. Так сколько листов было — четыре или один?
Все официальные лица молчат и делают вид, что этих исследований вообще нет. Но это лишь усиливает сомнения в объективности проведенного расследования и достоверности сделанных следствием выводов и порождает новые вопросы. В частности, где же оригинал, и на скольких листах, и был ли он вообще? Проводились ли соответствующие экспертные исследования подписей, нанесенных на текст записки Берии, самого текста с целью установления, принадлежит ли этот текст, исходя из особенностей изложения, одному человеку или нескольким? Еще живы и находятся в здравой памяти немало людей, державших в руках особую папку и знающих, что же именно в ней находилось, что и при каких обстоятельствах из нее предавалось публичной огласке. Хотелось бы услышать и от членов Конституционного Суда, что за документ под названием «записка Берии» им представлялся, когда пытались запретить деятельность КПСС.
Что касается записки Шелепина Хрущеву, то к ней также много вопросов. Словарный запас автора явно не соответствует социальному положению партийного руководителя того ранга, который занимал Шелепин, и он ли ее писал? Записка содержит массу ошибок и существенных искажений в описании излагаемых событий, что для председателя КГБ было бы недопустимым.
Настораживает еще один момент в этой истории. С легкой руки Службы безопасности Украины в
Необходимо публичное и непредвзятое обсуждение всех аспектов этого дела, возможно, даже на парламентском уровне. Нужно привлекать независимых специалистов, не связанных служебными обязанностями и корпоративной солидарностью, для выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для данного дела, с учетом всех доводов заинтересованных сторон, попытаться как можно точно подсчитать действительное количество погибших и установить их национальную принадлежность.
Ясно, что сделать это не легко, но также очевидно, что пока истина не будет установлена, проблема закрыта не будет. Более того, на этой почве будут продолжаться разного рода политические спекуляции.
Еще один момент заслуживает внимания. Из тех архивных материалов, а их были тысячи, что проходили через ГВП, было отчетливо видно, что в предвоенный период (1939—1940 гг.) западные районы Советского Союза, вплоть до Урала, были окутаны густой шпионской сетью как немецких, так и польских спецслужб. Агентура у них работала, как говорится, на полную катушку, с размахом. Они знали все, что делается в приграничных районах, даже где какая корова чихнула. Если бы действительно имел место факт массового расстрела польских офицеров в
Однако те, кто его инициировал и создавал, решая свои сиюминутные политические и карьерные задачи, не думали, какими последствиями обернется и уже оборачивается для нашей страны скоропалительное и безоглядное признание за СССР факта массового расстрела польских офицеров. За состряпанную политиками 90-х ложь уже приходится дорого расплачиваться. Опираясь на нее, наши недруги заговорили уже о геноциде поляков, о массовых исках в Страсбургский суд.
Понимание этого с большим опозданием, но приходит. В сегодняшнем выступлении Президента России отчетливо прозвучала мысль, что в этой истории еще не все до конца ясно, требуется дополнительное разбирательство обстоятельств трагедии. Это высказывание свидетельствует о наличии обоснованных сомнений в правдивости существующей официальной версии и ее доказательной базы. Теперь необходимо сделать следующий шаг — подтвердить или опровергнуть имеющиеся сомнения. Нельзя, как страус, прятать голову в песок, надеясь, что все рассосется само по себе, и при этом выдавливать из себя неадекватные оправдания. Не рассосется.
В этой связи еще раз хочу заострить внимание на необходимости независимого, открытого и беспристрастного изучения всех материалов уголовного дела с учетом всех появившихся дополнительных материалов, а их набралось изрядное количество, обратив особое внимание на допустимость доказательств, которые легли в основу выводов принятого по делу решения. Возможно, что для установления истины потребуется судебное разбирательство. Но на это нужно идти, чтобы раз и навсегда поставить точку в катынской истории.
Лучин б. О., судья Конституционного Суда РФ в отставке, доктор юридических наук:
Я хотел, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, сказать, что, несмотря на определенные ожидания, связанные с Конституционным Судом и его участием в разрешении Катынского дела, я хочу сразу вас предупредить, что Конституционный Суд не может выполнить эту историческую роль в силу своего статуса и ограниченности компетенции. Он не рассматривает вопросы политического характера, только вопросы права. Он не рассматривает и не исследует фактические обстоятельства, дает только правовую оценку.
Но то, что касается прошлого, надо отметить, что, действительно. Конституционный Суд пытались использовать как инструмент подавления вот тех демократических институтов советского периода, как инструмент борьбы с Коммунистической партией, достижением ее запрета и ликвидации советской власти. Представители президента Ельцина — эти неистовые, оголтелые антисоветчики и антикоммунисты, некоторые упоминались уже здесь: и Шахрай, и Макаров, и Федотов, и Бурбулис, и еще некоторые другие — они пытались всеми силами использовать Катынскую трагедию в качестве основания для усиления своего обвинения против Компартии. И все, что они могли достать руками (либо своими, либо руками Ельцина) из сейфов, из архивов — документы и лжедокументы, они пытались использовать. И они агрессивно и яростно возвращались к тому, что это одна из самых больших повинностей и одно из самых больших преступлений, которое совершили Компартия и советская власть, советское руководство против своего народа, против польского народа. Но я хочу напомнить вам (вы, очевидно, это знаете), что была очень такая бурная и продолжительная дискуссия о том, приобщать или не приобщать эти документы, использовать их в качестве определенных не только поводов, но и оснований для принятия резолютивного решения. Все-таки возобладал разум в Конституционном Суде, и мы отказались поддержать вот эти требования, настойчивые требования, чтобы все, что связано с Катынской трагедией, использовать и в постановлении Конституционного Суда в его резолютивной и даже мотивировочной части. И я думаю, что это было совершенно справедливо. Здесь для этого были и чисто юридические основания, кроме тех обстоятельств, о которых я уже говорил. Конституционный Суд не мог на слухах, сведениях, сомнениях принимать какие-то решения.
И вот то, что уже касается нашего времени, выступлений наших руководителей государства — президента и правительства, юристов, здесь допускаются иногда не очень верные пассажи. Ведь все сомнения трактуются в пользу того субъекта, который обвиняется. Все сомнения, все неясности. А сейчас президент, с одной стороны, так говорит, с другой — поправляет себя. Раз не все ясно, то какие юридические основания есть для того, чтобы выводы какие-то делать? Делать какие-то выводы и возлагать ответственность на Российское государство?
Я думаю, что позиция Конституционного Суда уже в какой-то степени — пусть вот такого позитивного нейтралитета — дает определенную опору для тех, кто отстаивает праведную, на мой взгляд, справедливую, исторически верную позицию решения Катынского дела.
Осадчий И. П., координатор КПРФ в Конституционном Суде РФ, доктор исторических наук:
Я буквально попросил слово на одну-две минутки для того, чтобы зафиксировать внимание присутствующих здесь на таком моменте. Не только по Катынско-му делу, но и по многим другим очень сомнительным и очень грязным вопросам, которые представила президентская сторона в Конституционном Суде, нам приходилось иметь дело с экспромтом. Совершенно абсолютно неожиданно раскрывается чемодан и выбрасывается на стол дело по Катыни—14 октября 1992 года Сергей Михайлович Шахрай вытаскивает дело по Катыни. И, несмотря на то, что это был экспромт, нашим юристам, чрезвычайно подготовленным и высокопрофессиональным, хватило минуты для того, чтобы усомниться в достоверности документов, представленных в качестве обвинения, утверждения о том, что расстрел польских военнопленных— дело рук НКВД СССР. Наши эксперты Феликс Михайлович Рудинский и Юрий Максимович Слободкин тут же в своих выступлениях, причем неоднократных выступлениях, доказали, что это очень сомнительный документ, которому доверять нельзя. И то, что сегодня говорили выступающие, включая и представителей Следственного комитета и Военно-следственной службы, — это совершенно точно было сказано и тогда. Что ни подлинников нет, ни точных данных о том, что эти документы были подлинными или имели место в реальности быть, что они сфабрикованы, — об этом говорилось прямо на процессе в тот же день, когда эти документы были представлены.
Таким образом, с самого начала появления этих документов в Конституционном Суде и в последующее время Феликс Михайлович Рудинский, который посвятил годы своей жизни этому вопросу, и его соратники более чем убедительно доказали, что принимать всерьез и на слово представленные Шахраем документы.
естественно, нельзя. Зачем же это было сделано? Шахрай, отвечая на вопрос председателя Конституционного Суда Зорькина, прямо сказал, что мы в данном случае не ставим вопрос о привлечении к ответственности в уголовном порядке. Мы выдвигаем эти документы для Конституционного Суда только с одной целью — показать, что Коммунистическая партия Советского Союза вникала во все дела, в том числе и в решаемые вопросы судеб народов других стран, и, в частности, польских военнопленных. Это вот одно замечание.
Рудинский Феликс, доктор юридических наук, до последних дней жизни занимался этими проблемами и, естественно, хотел довести дело до логического конца. К сожалению, его уже нет. Но он обозначил целый ряд вопросов, которые требуют дополнительного исследования. Я рад, что сегодня присутствующие очень часто, не ссылаясь на него, повторяли то же самое и говорили о том же, о тех же сомнениях, которые возникали в Конституционном Суде РФ.
И еще одна реплика, совсем короткая. Мне представляется, что польская сторона, естественно, является жертвой. Она в любом случае является жертвой, будь то от немцев или от советских, или еще кого-то. Но есть другой вопрос. Дело в том, что и документы Бурденко (мы, кстати сказать, требовали от президентской стороны их представить), и документы Нюрнбергского процесса нигде не проходят. А там же очень интересные были свидетели на Нюрнбергском процессе, включая бывших бургомистров, бывших полицейских, бывших деятелей фашистской Германии, то есть периода оккупации. И, естественно, они дают очень много интересных свидетельских показаний.
И второе, почему я касаюсь этого вопроса. Потому что ни одни поляки живут Катынским делом. В 1951 году департамент США поднял этот вопрос, создал специальную комиссию и отправил специальную ноту Советскому Союзу с требованием, чтобы тот объяснил и представил документы, которые бы опровергали утверждение о расстреле военнопленных поляков НКВД СССР. Была отправлена нота советского правительства, которая была исчерпывающей, со ссылкой на выводы комиссии Бурденко, в 1944 году проводившей вскрытие захоронений.
И дальше. В 1972 году уже Би-би-си берется за это дело. И тоже их, англичан, волнует вопрос о Катыни, и тоже они требуют представления от нас документов, которые бы подтверждали правильность или неправильность постановки вопроса о расстреле НКВД этих людей. То есть, как видите, ведущие государства, службы соответствующих государств заинтересованы в том, чтобы это дело не умерло, не затихло. Если бы поляки были одни сами по себе, без такой солидной поддержки, как США, Великобритания и другие страны, вряд ли бы они до сих пор занимались этим вопросом.
Лукьянов А. И., профессор МГУ, доктор юридических наук, в 1990—799/ гг. Председатель Верховного Сове-та СССР:
Прежде всего хочу согласиться с выступавшими здесь товарищами, считающими, что обсуждаемые нами вопросы имеют не только юридический, но во многом сугубо политический характер. Их нельзя рассматривать в отрыве от всей истории российско-польских отношений, а история эта длится не одно столетие.
Какими бы ни были события в Катыни, нельзя, недопустимо забывать о мученической гибели от 30 до 80 тысяч наших красноармейцев, оказавшихся в польском плену в 20-е годы, а также о терроре польской военщины в отношении граждан Белоруссии, Украины и Литвы в 1939-м и 1940 годах. Нельзя вырывать события в Катыни из общего контекста пребывания воинских соединений генерала Андерса на территории Советского Союза в годы Отечественной войны, а также политику лондонского правительства генерала Сикорского и переписку И.В.Сталина с У.Черчиллем в связи с действиями этого правительства.
Наконец, нельзя откладывать в сторону политику, умело разработанную руководителями гитлеровского рейха, достаточно четко сформулированную в дневниках Геббельса и других немецких документах, подлинность которых подтверждена всеми юридическими экспертами.
Таким образом, ни в коем случае не следует вырывать то, что происходило и что происходит сегодня вокруг трагедии в Катынском лесу, из исторического контекста. Хочу только добавить, и из контекста политики нынешних российских властей, ищущих примирения и понимания Польши там, где их, на мой взгляд, по всей видимости, не было и не будет.
Входе нынешнего обсуждения много говорилось о документах, об «Особой папке», о решениях Политбюро ЦК КПСС и т.д. Скажу только, что «Особая папка» представляла собой пакет из плотной бумаги, вскрыв который получившее его лицо должно было после ознакомления с содержавшимся в нем документом особой важности запечатать конверт и поставить свою подпись в правом верхнем углу этого конверта. Могу подтвердить, что такой конверт, переданный М.С. Горбачеву специально уполномоченным для этого работником Общего отдела ЦК КПСС Виктором Галкиным, был возвращен в Отдел с подписью Горбачева.
Насколько я помню, документ этот вновь был в поле зрения руководства Политбюро ЦК КПСС в дни, когда на Съезде народных депутатов СССР А.Н. Яковлев выступал с докладом по вопросу о так называемом «Пакте Моло-това — Риббентропа». Так что у меня нет сомнения, что Президент СССР был знаком с документами и материалами, находившимися в «Особой папке». Как эти материалы попали потом в руки Б. Ельцина, а затем были переданы польской стороне, мне неизвестно.
С отношением польского руководства к проблемам катынской трагедии мне пришлось в первый раз познакомиться во время поездки в составе советской делегации в Польшу в октябре 1957 года. Возглавляли эту делегацию заместитель председателя Юридической комиссии при Совете Министров СССР В.Н. Суходрев и Главный военный прокурор А.Г. Горный. Уже тогда было ясно, что определенная часть польского руководства была настроена на то, чтобы раскрутить проблему катынской трагедии, взвалив всю ответственность за нее на Советский Союз. Не исключаю, что польская сторона уже тогда стремилась склонить на свою сторону кое-кого из наших военных юристов и других экспертов.
В целом мое соприкосновение с тем, что произошло в Катынском лесу, было также в значительной мере связано с тем, что территория Катыни (Козьих Гор) входила в Смоленский избирательный округ, от которого я избирался депутатом Верховного Совета СССР, а затем Государственной Думы Российской Федерации первого, второго и третьего созывов.
Будучи коренным жителем Смоленщины я еще до окончания Отечественной войны знал о работе в Катынском лесу специальной правительственной комиссии под руководством академика H.H. Бурденко, в которую входили крупнейший русский писатель Алексей Толстой, деятели советской науки, культуры и церкви, медики и юристы. Не один раз мы со школьными товарищами ездили в Катынь на велосипедах, видели на месте захоронения высаженные немцами строгие шпалеры молодых сосен и слышали рассказы жителей Гнездова и других населенных пунктов этого района о карательной деятельности фашистов. Уже тогда было известно, что вблизи Козьих Гор был расположен так называемый «бункер Гитлера», в который немецкий фюрер приезжал в середине войны.
Жители Гнездова рассказывали, что строили этот бункер военнопленные, которые затем были расстреляны немцами и захоронены в Козьих Горах.
Об этом же два с половиной десятилетия тому назад мне рассказывали офицеры нашей ракетной армии, дислоцировавшейся в районе Катыни на берегу Днепра. Кстати, по свидетельству военных, в этом месте было захоронено и немало жертв репрессий НКВД 1937—1938 годов.
В целом на моей памяти не было ни одного жителя Смоленщины, которые сомневались бы, что в Катыни захоронены польские офицеры, ставшие жертвами фашистского нашествия. И нет, на мой взгляд, никаких оснований ставить под сомнение объективность выводов, сделанных членами советской правительственной комиссии в 1944 году.
Что касается архивных документов Политбюро ЦК КПСС, то мне в бытность заместителем заведующего, а затем заведующим Общим отделом и Секретарем ЦК КПСС представляется, что какое бы то ни было использование документации особой важности без ведома руководства Центрального Комитета партии было вообще исключено. Хотя вполне возможно, что в последующие годы, особенно в период рассмотрения так называемого «дела КПСС» в Конституционном Суде РФ в эти документы могли быть внесены изменения и поправки, доступные нынешним средствам множительной, ксероксной и фотографической техники.
Особенно это касается документов, хранившихся в бронированных сейфах Общего отдела ЦК КПСС, и прежде всего документов «Сталинского архива» с которыми мне довелось знакомиться. Мои беседы с бывшим многолетним секретарем И.В. Сталина А.Н. Поскребышевым, который после смерти Сталина состоял на партийном учете в парторганизации Президиума Верховного Совета СССР, подтверждают, что ни один документ, рассматривавшийся Сталиным, не проходил мимо рук Поскребышева. Он не только подчеркивал синим либо красным карандашом наиболее важные места в документах, представлявшихся Сталину, но и после получения резолюции Сталина запечатывал и учитывал каждый конверт «Особой папки», побывавшей в руках вождя.
Строжайший порядок соблюдался в аппарате ЦК КПСС в определении дат принятия решений высших органов партии, установления номеров документов и визирования их соответствующими партийными и советскими работниками с точным указанием их должностей и дат рассмотрения документов.
В этой связи вызывает, в частности, сомнение так называемое письмо А.Н. Шелепина, направленное в 1962 году Н.С. Хрущеву, в котором содержится предложение уничтожить дела жертв катынских расстрелов, тем более, что решение Политбюро ЦК по этому письму никак не обозначено и никому не известно. Если же предложение Шелепина было поддержано, то откуда появилось 67 томов этих дел, переданных недавно польской стороне?
Не менее важна судьба документов, связанных с советскими военнослужащими, попавшими в 1920 году в плен, замученными и погибшими на территории Польши.
Наконец, мы просто не имеем права не вернуться к сохранившимся и бывшим в поле зрения Нюрнбергского трибунала подлинникам — дневникам Геббельса, замыслившего катынскую провокацию, а также документам Гитлера, Геринга, Франка и других военных преступников.
Почему я об этом говорю? Дело в том, что как только началось обсуждение вопросов катынской трагедии, и особенно в связи с катастрофой самолета и гибелью президента Польской Республики и других высших деятелей польского руководства, в российско-польских отношениях вновь разгорается полемика. В частности, ко мне обратились по этим вопросам ветераны Смоленской области, которые считают, что это еще раз вынуждает нас вернуться к тщательному и объективному расследованию всех сторон не только катынской трагедии, но и всех обстоятельств, связанных с мучениями и гибелью воинов Красной Армии в двадцатых годах прошлого столетия на территории Польши.
Для этого нужны открытый и честный судебный процесс, экспертиза всех имеющихся документов, а, главное, беспристрастная историческая правда, достойная чести наших соседних народов.
Зимонин В. П., доктор исторических наук, профессор: Для чего нужна Катынь? Это видно по той лавине фальсификаций в целом по Второй мировой войне, по Великой Отечественной войне. Во-первых, для того, чтобы показать совиновность Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, ну и полякам это нужно для того, чтобы показать, какие они белые и пушистые были и как пострадали от коммунистического советского режима.
17 сентября
Все мы знаем, что такое Мюнхенский сговор. Это не умиротворение, отнюдь, это поощрение к агрессии против Советского Союза. И Польша в этом принимала самое активное участие. Ее вполне одним из архитекторов Мюнхенского сговора надо назвать. Почему? Потому что
Польша самым непосредственным образом участвовала вместе с Венгрией и Германией в разделе Чехословакии. И тут все шито белыми нитками. И пакт о ненападении первая Польша с Гитлером подписала еще в январе 1934 года. Еще только-только Гитлер пришел к власти, никакого намерения нападать на Польшу в то время не было. Для чего нужно было заключать этот пакт о ненападении? Чтобы подтолкнуть Гитлера к походу на советскую Россию, на Советский Союз. И в январе подписано соглашение, а спустя месяц Польша подписала с Германией соглашение о гарантии в сторону коридора Советского Союза. Это 1934 и 1935 годы.
1938 год— раздел Чехословакии, где Польша активно участвовала. Для чего? Для того, чтобы опять приблизиться к нашим границам.
В марте 1939 года Гитлер захватывает район Клайпеды. Польша претендует на остальную часть Литвы. Ну и так далее, и тому подобное.
И вот настало 1 сентября 1939 года, все привязывают эту дату к началу Второй мировой войны. Принятая общепризнанная дата. Нужно ее отвергать, не нужно отвергать, но в принципе все началось гораздо раньше, на Дальнем Востоке, когда Манчжурию отдали в 1937 году Японии, проглотили тотальную войну против Китая.
И в этой ситуации, когда Советский Союз воюет (военные действия на Халхин-Голе, в Монголии), другого варианта у нас, как ограничить продвижение Гитлера и создать себе условия для передышки, для паузы, для развертывания и военного производства и для подготовки Вооруженных Сил, у нас не было. Были абсолютно неизбежные, объективные условия для того, чтобы Советский Союз пошел на подписание с Германией этого пакта о ненападении. Ни о какой Польше, о вторжении в Польшу ни в этом пакте, ни в протоколе речи не было. Только разграничение интересов.
Более того, Риббентроп начал нам навязывать вступление на территорию Польши уже после 3 сентября, когда Англия, Франция объявили войну Германии. Мы не вступали до 17 сентября. Советский Союз не вводил войска. Связано это был и с тем, что до 1 б сентября у нас еще не разрешен был вопрос с Японией на Халхин-Голе. С тем, что Гитлер вдруг решил бы пойти дальше оговоренной сферы интересов, захватив там лишние территории. Третья причина. Польша рухнула. Правительство с 16 на 17 сентября покинуло территорию Польши. И чтобы остановить хаос в восточных районах Польши и защитить наше украинское, белорусское однокровное население, и были введены войска.
Конечно, было сопротивление со стороны каких-то сил, и, естественно, были пленные. Я допускаю, что какая-то часть из-за своего антисоветского поведения была расстреляна. Но приписывать Советскому Союзу и совиновность в войне, и разделение Польши, уверен, несправедливо. И спасти от этих обвинений может только тщательное, глубокое и объективное судебное расследование в привязке, может быть, с теми событиями, которые произошли в 1919—1921 годах в Польше, я имею в виду гибель там наших пленных. Вот там уже точно руки замараны были польской стороной. Нужно разобраться, четко все определить и сказать об этом народу.
Кириллин А. В., начальник управления Министерства обороны по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества:
Я не являюсь, конечно, крупным специалистом по катынскому вопросу, но я внимательно знакомился и продолжаю знакомиться со всеми доступными материалами, с публикациями Мухина, Шведа, Жукова. И разделяю их точку зрения полностью.
Я бы хотел вернуться к тому, с чего вы начали. Существует безусловная проблема увековечивания памяти погибших красноармейцев и командиров Красной Армии в польском плену и даже, более того, до того, как они попали в концентрационные лагеря. И, разумеется, есть проблема изучения этого вопроса с точки зрения совершения военных преступлений со стороны польского руководства и военного руководства.
К сожалению, расследование гибели наших красноармейцев шло и идет ни шатко ни валко.
По нашим подсчетам, в 1920 году было пленено приблизительно 216 тысяч, из которых в лагеря попало чуть больше 160 тысяч. То есть еще до того, как красноармейцы попали в лагеря, они уже по дороге умерщвлялись. Может быть, кто-то бежал, я согласен. Но вы сами понимаете, что это будет меньшая часть от тех, кто погиб уже при транспортировке в лагеря.
Кровь стынет в жилах, и волосы встают дыбом, когда читаешь документы, как обращалась польская администрация этих лагерей с нашими военнопленными. Мне не хочется здесь все это повторять, но вот нам представляют документы, что при эксгумации расстрелянных польских офицеров находят награды, деньги, фотографии, портсигары, блокноты, дневники... А наши военнопленные находились без верхней одежды. Их никто толком не кормил. Они умирали тысячами от дизентерии, в собственных испражнениях. Приезжавшие польские руководители военной медицины, начальник санитарной службы польской армии был в ужасе от того, что он увидел, и писал по этому поводу доклады. Людей засекали насмерть колючей проволокой. Расстреливали без суда и следствия просто потому, что не так ответили, не так что-то сказали. Без каких-то там разбирательств. Когда живое животное — кота — зашивали живому человеку в живот... И многое-многое другое.
Есть факты, за которые пытались привлекать даже польских офицеров к какой-то ответственности, но никто ответственности не понес. И тому есть документы, в том числе и у поляков есть эти документы.
Почему-то эти все вопросы ушли как-то, понимаете. Всех обеспокоили и беспокоит судьбы польских офицеров. Безусловно, жаль людей, которые пострадали, погибли безвинно. Ну а десятки тысяч наших соотечественников? И мы списков не имеем, толком найти следы, где они похоронены, не можем. Есть порядка десяти мест захоронений, которые поляками признаются. Какие-то там скромные на них таблички есть, но в основном мы не знаем даже, где они находятся. Людей использовали, как скот, запрягали в бочки с испражнениями, чтобы они их таскали. Издевательства были совершенно нечеловеческие. Это все вопросы, которые, конечно, надо увязывать. И понимать... Не противопоставлять, что вы так, а мы — так.
А что касается Катынской трагедии, то я придерживаюсь точки зрения, которую высказывал: какая-то часть пленных по приговорам была расстреляна органами НКВД, видимо, это порядка трех тысяч двухсот человек, а остальные частично умерли, а частично были расстреляны уже немцами, видимо, после строительства ими знаменитого бункера или просто.
Колесник АН., доктор исторических наук: — Мне дважды приходилось по вопросу Катыни разговаривать с Лазарем Моисеевичем Кагановичем, и, возможно, я был единственным человеком, которому он отвечал. Первый раз мне поручил этот вопрос задать начальник Института военной истории Жилин Павел Андреевич, где я был старшим научным сотрудником, потом меня, уже начальника отдела, посылал к Лазарю Моисеевичу Дмитрий Антонович Волкогонов, начальник института. Валентин Михайлович Фалин лично меня просил осуществить секретную запись разговора, рассказа Лазаря Моисеевича Кагановича по Катыни по определенному опроснику, который был передан никем иным.
как Александром Николаевичем Яковлевым. Говорю об этом прямо, потому что были свидетели, которые в этот момент присутствовали.
Лазарь Моисеевич Каганович однозначно сказал по расстрелу поляков: «Мы ни в коем случае не отождествляли польский народ с теми, кто понес наказание. Было расстреляно 3196 человек. Это те, кто был задействован в карательных органах, в органах управления и непосредственно участвовал в уничтожении наших красноармейцев, а также те, кто совершил воинские преступления, работал в разведорганах». Он также сказал, что на территории нахождения польских военнопленных различными странами проводилась работа по поднятию восстания против советской власти. Это, говорит, известно всем. Когда я ему передал непосредственно вопрос, который ему хотели бы задать ранее названные мною лица, он ответил, что, дескать, понимаю, речь идет о будущем развале нашего государства. Присутствовала, кстати, дочь Майя Лазаревна, она все время его одергивала: мол, не надо тебе говорить. Он ответил: я это прекрасно понимаю, казна пуста, власть все разворовывает, и поэтому есть только одна возможность — разрушить государство. Мне, говорит, очень жаль, что мы столько вложили труда, столько сделали для того, чтобы поднять государство, а сейчас оно идет к краху. Я тогда еще очень удивился, но потом этот вопрос задал Волкогонову. Волкогонов мне прямо сказал: «Будет смена власти. И сейчас идет подготовка. Я был у Бурбулиса». Он называл Оренбург или где-то там. И он мне конкретно сказал, что сейчас активно разрабатывается идея, по которой СССР не будет, будет одна Россия, и сейчас идет дележ портфелей, дележ власти и дележ того, что можно приватизировать. Я еще спросил, каким образом? Он говорит: мол, если какой-то первый секретарь не выполнит эту команду, то он останется ни с чем и его выкинут. Так оно и совершилось.
Я задавал вопросы по количеству расстрелянных нами военнопленных очень разным людям. Задавал начальнику аналитической службы КГБ. Он владеет полностью информации, живой сейчас, здравствующий. Он сказал, что чуть больше трех тысяч, это однозначно. Я задавал этот вопрос и Филиппу Денисовичу Бобкову, руководителю КГБ СССР, он тоже подтверждал: около или чуть больше трех тысяч. Цвигун мне подтверждал эту цифру. Теперь ГВП и поляки довели ее до 21—22 тысяч.
Здесь, за «круглым столом», уже говорилось о пленении поляками в 1920 году более ста тысяч российских красноармейцев, о жестоком отношении к ним поляков, об их фактическом истреблении. Действительно, мало кто вернулся в Россию из плена — многие были убиты, умерли от голода, избиений и пыток.



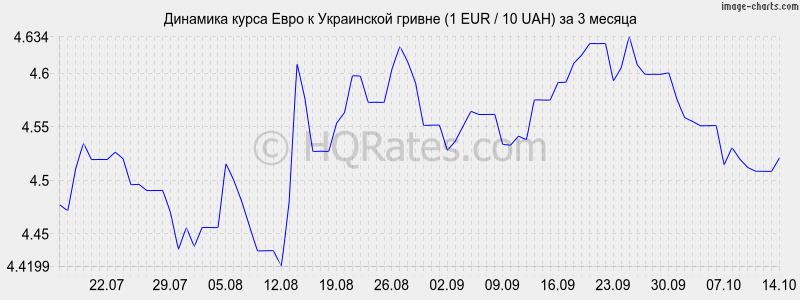



Комментариев нет:
Отправить комментарий